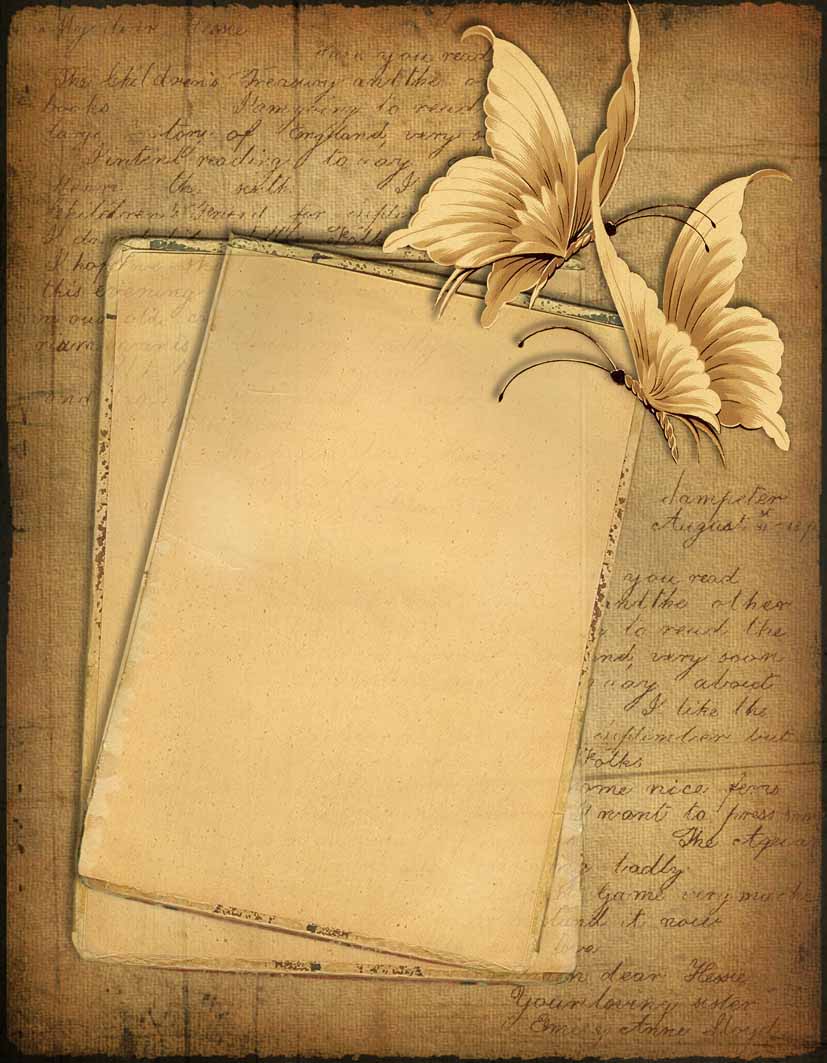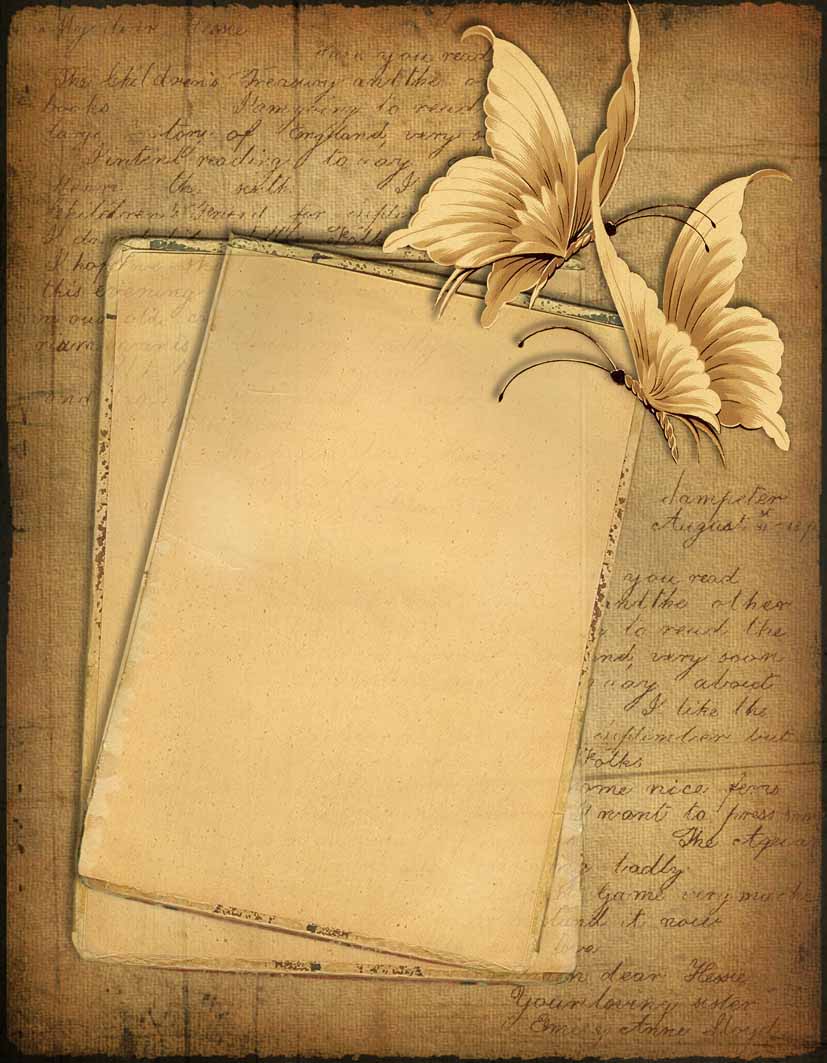
Место рождения последыша Петеньки – Амуро-Балтийск, Покшановский хутор на берегу озера. В июле тридцать восьмого года случилось большое наводнение, потому уехать маме в овсянковскую больницу не было никакой возможности. Впрочем, кто бы ее повез, кто бы дал лошадь – жене «врага народа»! Да и мама вряд ли оставила бы нас четверых да двух коров-кормилиц без присмотра на целую неделю. Повивальной бабкой была Анна Цируль. На другой день после родов мама уже была на ногах. Только вот молоко пропало, первые дни вместо грудного кормления давали мальчику завязанную в марлечку тертую свеклу.
Судьба или какая-то высшая сила отводила от маленького Петра Петровича беду. Когда я бегала за повитухой, на обратном пути сорвала несколько первых ягодок земляники – и Пете, только что родившемуся, еще не обмытому, сунула в ротик эти ягоды, да еще и пальцем придавила. Ведь мог задохнуться младенец, и никто не узнал бы причину. Потом как-то к осени (было ему месяца три) дала братику по доброте душевной пососать кусочек сахара. Рафинад тогда был крепкий, долго не таял, грани острые. Попал мой сахар братику в дыхательное горлышко. Бегаю я по берегу Покшановского озера, трясу младенца на руках, он задыхается, а из горлышка течет кровь. Отвело оба раза беду страшную. Не пал грех на душу мою.
Петей брата назвала я, сама ходила в деревню регистрировать его рождение. Не знаю, может, мама дала бы сыну другое имя, но я заартачилась, заявила, что если это будет не Петя, то я его и нянчить не буду. Мама в ответ промолчала. Называя сына Петей, она, вспоминала другого Петра, пропавшего где-то в тюремных застенках отца.
Рос наш Петенька прехорошеньким, любимцем всей деревни. Потому и капризуля был порядочный. Рассердится – хлоп на пол и ревет белугой, никто не успокоит. Однажды, когда он выкинул очередной такой финт, мы с мамой не стали обращать на него никакого внимания. Он поднял голову, посмотрел на нас – ноль внимания. Хотел еще раз заплакать, но без зрителей, вроде, это ни к чему. Замолчал, поднялся сам с пола и стал спокойно играть. Больше ни разу на пол не падал. Но капризничать не перестал. Айе было лет шесть, брату – года два-три. Ночью у Пети очередной «бзик»: «Хочу гороха! Хо-чу го-ро-ха! Пусть Айна принесет!» Темнота кромешная. На улице ливень. Дали Айе какие-тобывшие в доме стручки. Взял, вроде успокоился, а потом потрогал платье сестры, захныкал: «Почему платье сухое-е-е?» Одно время в раннем детстве (около годика) любимым занятием Петра младшего было бросание тарелок.
Мама уходила на работу, мы усаживали братишку на стол, подвигали тарелку, а он ловко смахивал ее на пол. Тарелка вдребезги, нам всем смешно до колик в животах. Закончились эти «игры», когда была разбита последняя в доме тарелка. И ведь мама ни слова тогда нам не сказала. Игрушек у нас не было никаких. Палочки, щепочки, травинки, и как великое сокровище – осколок цветного бутылочного стекла. В доме на Ледзеркстовском хуторе было очень холодно. Спали в постели все вместе, согревая друг дружку. Зато во дворе стояла русская печь, где Дед Мороз обычно прятал свои подарки.
Бани в деревне не было. Купали детей раза два в месяц. Ванну с водой ставили на табуретку рядом с чугунной печкой. Однажды, когда Петю вынимали из ванны, он, голенький выскользнул из рук и упал затылочком на печь. Кожа мигом приварилась к раскаленному металлу. С тех пор и остался у него шрам на голове.
Пете четыре года. Увидел впервые, как цветут тополя, что росли за нашим хутором в яме. До этого брат часто слышал от колхозников непонятное слово «херовина». И, видно, теперь сообразил детским умишком, что наконец-то он это самое и увидел. Запыхавшись, прибежал домой и объявил: «Мама! Там в яме такие черные херозины болтаются!» Так он, дитя природы, учился русскому мату.
Как-то метали мы с Петей стог на Линдемановском хуторе. Я подавала – Петя вершил. Только закончили, обрадовались, стог наш упал. Немудрено, «метателю» нашему всего семь лет, вес, как у пушинки, да и опыта никакого. Обидно было до слез! Домой возвращались поздним вечером. Работничек мой засыпал на ходу, беспрестанно спотыкался о малейшую неровность на дороге. У озера ударился крепко левой ногой о камень. Кровь ручьем, а он прыгает на одной ноге и кричит: «Слава Богу, на счастливой ноге!» (считалось, что споткнуться на левую ногу к счастью). Хватало же нам всем сил тогда как-то жить и не унывать.
Следуя отцовским традициям, младший мой братик непременно участвовал во всех школьных концертах. Как-то мы выезжали в Овсянку, Петя сольно исполнял латышскую песню о сиротах. Зрители без конца просили его повторить. И он пел снова и снова. Не знаю, как там мастерство исполнения, но имидж… соответствовал. Исполнитель радовался, а мы безутешно плакали за кулисами.
Когда Петя пришел в 5 класс Овсянковской школы, учительница Нина Александровна начала урок: «Встаньте, дети, у кого погибли отцы!» Она, конечно, имела в виду «погибли на войне». Петя встал первым. Ничего не сказала Нина Александровна, только посмотрела печально.
Осталось сказать, что теперь наш младший Петр Петрович очень похож на папу во всем. Отец оживает в его движениях, жестах, в лице, голосе, облике, даже симпатиях и антипатиях. Педагог Петр Лакстигал – сын учителя Петра Петровича продолжает отцовское дело в новом столетии.
Продолжение
|