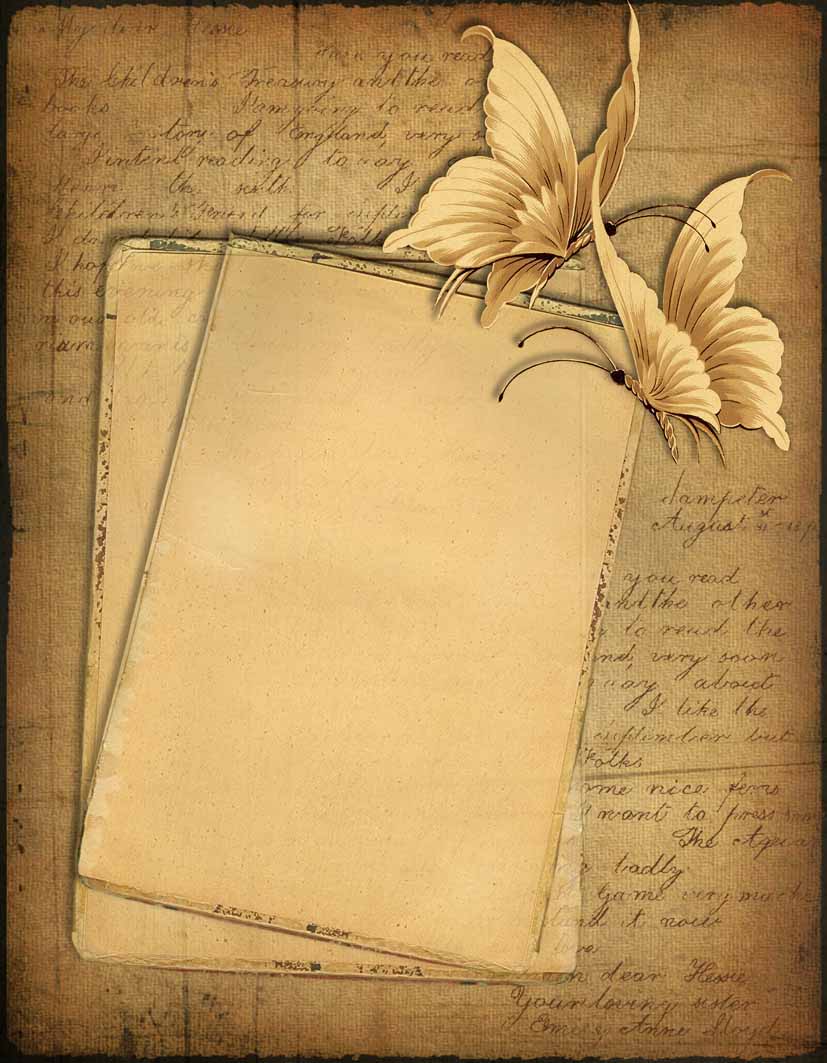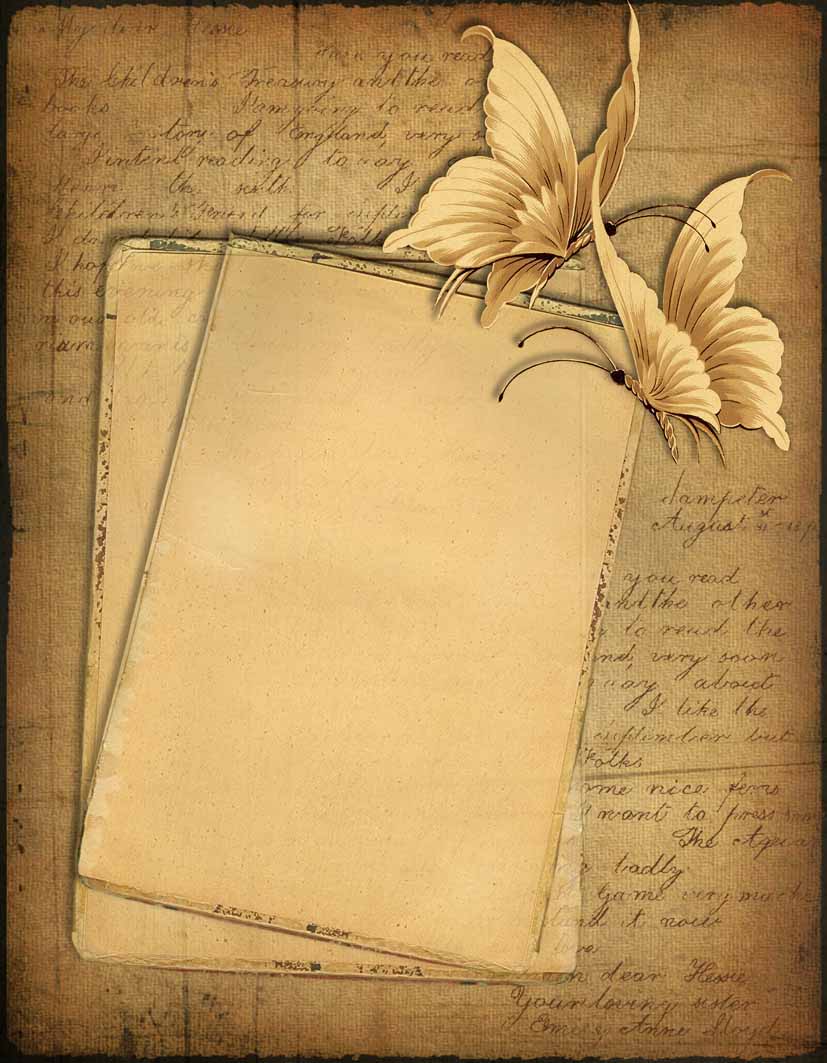
Много гостей бывало у нас. Думаю, не бог весть, какие были разносолы с учительского жалования. Просто, видно, душа требовала общения, творчества. Репетиции интернатовцев (детей «кулаков-стоверстников») проходили тоже у нас в доме. Щелкнет папа по камертону, поднесет его к уху, тянет ноту: «Ля-ля-я». Потом все распеваются, и после этого начинается серьезная репетиция. Хор взрослых пел «Там вдали за рекой», «Марш авиаторов», «Песню о челюскинцах», «Заводы, вставайте!» Ребята разучивали песни Дунаевского, отцу нравилось его творчество, «Распрягайте, хлопцы, коней!»… Сам очень любил петь шаляпинскую «Блоху». Рассказывал, что в двадцать шестом году ему посчастливилось слушать Шаляпина на прощальном концерте, который Федор Иванович давал перед отъездом за границу. Отзывался о концерте восторженно. Мы же завороженно слушали пушкинское «Ворон к ворону летит» в папином исполнении. Как проникновенно тихо выводил он последнюю строфу: «А хозяйка ждет милого, не убитого – живого…» А когда пел финальное «Плачьте, красавицы, в горном ауле, справьте поминки по нас. Вслед за последнею меткою пулей, мы покидаем Кавказ», – взгляд его становился печальным и голос трагически замирал, обрывая последнюю ноту. Почему он так любил эти песни? Может быть, что-то предчувствовал? Любимые папины инструменты – скрипка и фисгармония. К скрипке чаще обращался в трудные минуты, особенно, когда тяжело и долго болела сестренка моя Айночка. Фисгармонию купил в городе Зее у Грошевикова. Вез в деревню зимой, на лошадях ее, укутанную шубами, как драгоценный груз. Таким инструмент и внесли в дом. Когда фисгармония отогрелась, папа бережно раздел ее. Помню руки его на клавишах – крупные, грубоватые… Воскресенье, утро, мы, ребятня, еще спим, а мама хлопочет у печки. Вымыты полы. Пахнет пирожками. Папа тихо играет на фисгармонии… Помню папины глаза, темные, сине-зеленые, почему-то прозрачные. Лохматые брови, смешливый взгляд и ироничные слова: «Молодец, молодец, делай так и дальше». Они обладали огромной силой воздействия, отбивали охоту к детским пакостям. Я даже просила его: «Ты лучше отлупи меня, но не смотри так». Он улыбался и продолжал воспитывать по-прежнему. Лет пяти от роду посылал меня одну пешком в магазин, что в соседнем селе. Проверял, знаю ли я повороты дороги, ведущей в Овсянку, могу ли самостоятельно выйти из леса. А сам шел следом за придорожными кустами. Когда на обратном пути за перевозом ко мне подошел «бамовец» (ссыльный), я заорала, в одно мгновение папа оказался рядом. Сам – музыкант, а меня не заставил освоить инструмент. Считал, что из-под палки ни к чему нельзя привить любовь.
Когда папа читал вслух в начальных классах «Слепого музыканта» Короленко, никогда не мог дочитать одну из глав. Уходил за классную доску, (она стояла на ножках) вытирал там слезы и с трудом заканчивал чтение. Видно, вспоминал в эти минуты своих маленьких сынов. Сильный, находчивый, мудрый учитель для многих селян, папа терялся в горе. Когда утонул маленький братик (папа считал, что по его вине) отец пытался покончить с собой. И тогда мама, хрупкая и нежная мама, взваливала все на свои плечи: и материнское страдание, и заботу об обезумевшем от горя муже. Мама всегда была рядом с ним, во всем поддерживала. Когда умер Ленин, она свою единственную бархатную юбку разрезала на траурные ленты для школьного знамени. Папа ставит спектакль – она играет в нем любую необходимую режиссеру роль. Помню маму в образе китаянки с длинными-длинными косами. Если надо, и меня прихватят. Первую свою роль, по словам мамы, я сыграла в девятимесячном возрасте. Постановщику был нужен вякающий младенец. А в четырехлетнем возрасте мне доверили роль с текстом. До сих пор помню свою единственную реплику: «Зубы у меня крепкие! Во!» Так трудящееся дите в моем лице отвечало на кулацкую угрозу. Если по ходу пьесы должен быть накрытый стол, до бутафории не унижались, мама готовила всё, что по замыслу автора должно стоять на столе. Однажды Воробьев держал такую долгую паузу, что зрители уже начали волноваться, а актер не мог произнести свою реплику, потому что уписывал колбаски, приготовленные мамой.
Старожилы села до сих пор помнят яркий праздник – 100-летие со дня смерти Пушкина, организатором которого был тоже наш папа.
Ребята и взрослые долго засиживались после репетиций и о чем-то беседовали с учителем, серьезно и доверительно. (Часто теперь думаю: «Господи, как сделать, чтобы ученик не предавал своего учителя, даже спасая себя?»)
В тридцать первом вместе с односельчанами вступили в колхоз «Ударник» и мы – Лакстигалы. Согласно акту обобществления в неделимый фонд сдали: нетель (нетельную крову) пеструю 2-х лет, пшеницы семенной 2 пуда 19 фунтов, овса семенного 2 пуда 15 фунтов, деньгами 105 рублей 37 копеек.
Трудным для нас был тридцать третий год. Летом пала корова Эда (а как в селе без коровы, да еще, если дети малые?) Колхоз выделил телку, но та подавилась картошкой, не выжила. Ослабевшая мама заболевает тифом (брат Эдгар совсем еще грудничок). Пока маму выхаживали в больнице, у папы началось рожистое воспаление. Без сознания, с жуткой температурой увозят в овсянковскую больницу и его. Врач Будин провел по груди чуть выше сердца каким-то лекарством линию: «Если опухоль остановится здесь – выживет, если перейдет…» Остановилась! Спасли! Вернулись домой вместе с мамой. (Без родителей мы жили с какими-то чужими людьми, и было нам очень плохо.) Мамины роскошные косы были обрезаны, острижена она была, как мальчишка, «под машинку». Пыталась дать грудь малышу – Эдгару, не узнал, все кричал «У-д-и!» Заплакала, повязала платочек. Стал приглядываться к маме, узнавать. Не отчаялись мама и папа в потоке бед, не разучились любить.
Помню (из раннего детства): ночь под Троицу. Полная луна освещает нашу комнату при школе. Мама уже спит. Папа на цыпочках пробирается в комнату и ставит у маминого изголовья молоденькую березку, застилает пол свежей травой с первыми цветами. Когда отца не будет на свете, много позже этой светлой ночи, мама, так же крадучись, принесет мне в день рождения куст шиповника.
Тридцатые годы. Отчетливо помню чувство страха. Было жутко, особенно вечерами. Беда уже постукивала в двери. Что будет война, чувствовали, даже мы, дети. Страшно было и от войны в Испании, и от конфликта на КВЖД. Это же совсем рядом! Летом я все время боялась войны с немцами, зимой, до ледохода, – с китайцами. Все чудилось, что придут в деревню китайцы и всех вырежут. Папа рассказывал, как у Благовещенска, что на Амуре, в двадцатые годы китайцев толпами спускали на воду, «переправляли» на тот берег, видимо, попросту топили. И как они кричали: «Мы все равно придем, и не будет вам пощады!»
На уроках пения учили маршевые бравурные песни о КВЖД: «Так махнули, так тряхнули, живо так ответили, что все Чжаны Сюеляны живо дело сметили…» или «Дальневосточная опора прочная!» Все вокруг было словно наэлектризовано. Война витала в воздухе.
Летом 1937 года случилось полное солнечное затмение. А зимой тридцать восьмого, 22 января с северной стороны вдруг больше, чем на полнеба запылало алое пламя. Больше двух часов бился, пульсировал этот кроваво-красный свет. Все это усиливало чувство страха. В это время в село провели радио. В основном шли прямые трансляции, (наверное, тогда еще в записи передавать не умели) процессы над «врагами народа». И мы их слушали…
В ходу был рифмованный куплет, предтеча нынешних анекдотов. Однажды папа, оглянувшись, чтобы без свидетелей, пропел для мамы: «Ленин Троцкому сказал: «Троцкий, я муки достал. Мне кулич, тебе – маца. Лам-ца-дрица отца-ца!» Пел для мамы, но у нас тоже уши были, и к тому же крепкая память.
Придя с траурного заседания в годовщину смерти Ленина, папа рассказал, что после выступлений всех докладчиков председательствующий обратился в зал: «Может, кто еще хочет сказать?» Подняла руку маленькая девочка (фамилию я теперь уже забыла): «Хочу стишок про Ленина рассказать». Взрослые засуетились, вывели на сцену, подняли, поставили на табуретку. И вдруг услышали звонкое детское: «Когда Ленин умирал, Сталину наказывал, чтобы хлеба не давал, сала не показывал!» Родителям это даром не обошлось.
Как-то летом мы получили письмо от папиного брата Ивана, который «исчез» в двадцатые годы. Никаких вестей от него не было полтора десятилетия и вдруг: «Я хотел бы повидаться с вами…» Ответили ему телеграммой с приглашением. Приехал дядя фантастически быстро. Был он невысокого роста с гривой белых зачесанных волос, с такими же белыми пушистыми усами. Очень похож на Райниса, отчасти – на Грига. Оказывается, дядя был проповедником и посему загремел на Соловки, где и просидел пятнадцать лет за религиозную пропаганду. Освободился, но за границу, в Латвию, уехать не мог. Добрался до нашего хутора. Помогал по хозяйству, строил омшаник, лечил больных заговорами. Помню, как дядя говорил папе, что наш народ никак не может без кумира, если нет такого, сам придумает. Чем крепче его (народ) бьет кулак кумира, тем почтительнее и восторженнее все целуют этот кулак. Для меня из спичек выкладывал 666 (звериное число), потом рассыпал это число и выкладывал имя «Сталин», поясняя мне, что это и есть главный антихрист. Зимой надорвался на стройке, заворот кишок, умер в три дня. Вот ведь как бывает. Мартын Десне занял себе место на кладбище у самых ворот, чтобы по пришествии судного дня, когда затрубят архангелы, встать первым и подойти к руке Всевышнего. Не случилось. Умер Мартын где-то в ссылке, а приехавший издалека на время в гости Иван Петрович Лакстигал лег на его место – поближе к Богу.
В нашем доме о политике не разговаривали или говорили осторожно, иносказательно, чтобы мы не могли пересказать на улице. Это грозило бедой всем. Хотя, надо сказать, в то время даже шестилетки знали – надо молчать. И молчали. Дети взрослели рано и быстро.
Последний свой год отец сильно страдал от бессонницы. Ничто ему не помогало. Давили предчувствия. А я, глупая, завидовала ему: «Вот бы мне бессонницу! (Я часто просыпала на первые уроки)». Он на полном серьезе: «Не дай Бог, доченька!» Недавно прочитала дневники Вернадского за тридцать восьмой год, в котором он пишет о себе и многих ученых, страдающих страшной бессонницей. Все стремительно слабели физически, теряли творческую работоспособность. Страшное, проклятое время!
Беда ходила за нами неотвязно. В 1937-38 году слегла корова, потом сестренка Зенточка сломала ногу, Айя заболела полиомиелитом, папу положили на операцию. В каникулы ему неудачно сделали операцию, начался перитонит. И только в первой декаде апреля отца привезли домой. Он не вставал с постели. Даже наши шаги по полу трясли кровать и причиняли ему боль. Но он скоро встал на ноги и пошел на работу. Ходил дня два…
Утром 15 апреля 1938 года часов в десять утра к нам прибежала Мильда Каулина и рассказала, что слышала, как накануне в овсянковской столовой бахвалился подвыпивший председатель Амуро-Балтийского сельского совета Лиханов: «Завтра арестуют Лакстигала, а в субботу председателя колхоза Звайгзне». Конечно, можно было успеть спрятаться, бежать в тайгу. Ну, куда же бежать больному человеку! Да и знал он, что за исчезнувшего расплачивался всегда кто-то из членов семьи. Могли забрать маму. Наверное отец все просчитал и решил дождаться гэпэушников. Пошел, как обычно, на работу…
В тот день через печную трубу в школу залетел воробей. Уборщицы Гаврилюк и Бородина горестно качали головами: «Очень плохая примета!» Все в школе запомнили этого воробья. Папа вел литературу в своем любимом 7"А", в дверь постучали, вызвали. И больше он в класс никогда не вернулся. Пока в доме шел обыск, мама успела собрать отцу небольшой узелок с бельем, положила маленькую подушечку, которую он подкладывал на учительский стул: не мог сидеть на твердом после операции.
Был четверг, в моем классе – урок черчения, которого я боялась больше всего. На переменке я побежала домой за чертежом. А у нас все перевернуто вверх дном, у печи гора бумаг. Я возмутилась: «Кто это рылся у меня на столе и опрокинул тушь на чертёж!» И вдруг, хоть никто не сказал мне ни слова (ни папы, ни милиционеров в доме уже не было) поняла, что произошло!
При аресте забрали все бумаги, все письма. Только свои личные письма от папы к ней, перевязанные розовой ленточкой, мама бесстрашно выхватила из рук гэпэушников, не отдала на публичное осмеяние самое дорогое. Потом я эти письма все по одному перетаскала в интернат. Мы читали их, плакали, грелись у чужой любви. Незаметно как-то их разобрали. Мама очень огорчалась, говорила, что я потом буду очень жалеть об утраченном. Как она была права! Хоть кусай сейчас себе локти. Не вернешь!
Забрали в тот роковой день много книг. Больше я не видела в доме томов латышских авторов, Артема Веселого «Россия, кровью умытая» (видно, насторожило название)… Забрали фотографии, стихи, ноты (папины сочинения). Унесли с собой ружья. Охотничье нарезное системы «Телль» (завода Зауэр) № 137256 и мелкокалиберное охотничье однозарядное нарезное ружье системы «Франкот», бокового огня № 718000*4347. А больше и нечего было забирать. Куда все дели? Забрали и с концом… Может быть, кто-нибудь из потомков, ветеранов ГПУ, резвится с нашими ружьями на охоте… Я пыталась разыскать, но безуспешно.
Соседи рассказывали, как семилетний Эдгар (мой младший брат) кидался на милиционеров, кусал их зубами, не давал в обиду своего папку. Не помогло.
На утро следующего дня мама пошла доить корову и вдруг вбежала в дом, схватила нож (не могла отвязать корову, хотела разрезать узел). А у меня сработало: «Снова обыск!». Торопливо запихала все бумаги в печку и подожгла. Может быть, сожгла что-то важное, необходимое. Позже пешком, босыми ногами (лед на реке Уркане еще стоял) сбегала в соседнее село, чтобы предупредить второго заложника односельчан-доносчиков Звайгзне.
К несчастью, хозяина дома не было. Его годовалая дочурка Нина высунула из зыбки свою белую головку и безмятежно улыбнулась… Из Овсянки папе было велено самому приехать в зейскую городскую тюрьму. И он поехал! Сам пошел, как кролик в пасть к удаву. Еще можно было бежать! В тайге искать боялись. Но дома четверо детей и любимая жена в ожидании пятого. Могли арестовать и ее.
Я пришла к отцу попрощаться. Он сидел у столовой, ждал машину. Рядом лежал собранный мамой узелок. Поговорили немного. Я старалась держаться по-взрослому. Сухо, строго, деловито. Пижонила ужасно. Напоследок сказала чью-то чужую фразу: «Ну, пока! Может, больше не увидимся». Он печально посмотрел на меня: «Скорее всего, дочь, так и будет» (говорили мы по-латышски). Я по-мужски пожала ему руку и пошла прочь. Даже не поцеловала его на прощание! Даже не оглянулась!
Продолжение
|